X
X
В том месте, где в Арьеж впадают источники Юсса, на каменистом горном склоне расположен вход в пещеру Орнолак[32]. Она уходит глубоко под землю, где разветвляется на множество галерей, одни из которых идут вниз, другие же поднимаются вверх наподобие лестниц. Гроты пещеры выше самых высоких соборов, а внизу, в самом центре, под сумрачными сводами, замерли недвижные воды озера. Последние альбигойцы, гонимые на всех землях графства Фуа, пробирались в Орнолак.
Я долго жил среди пастухов. Потом меня радушно принимали в замке д’Алион, но его вскоре сожгли. Сенешаль Каркассонна разрушил все замки, принадлежавшие еретикам. Ради спасения жизни часть альбигойцев отреклась от своей веры, другая группами ушла в горы, откуда совершала набеги на захватчиков. Я примкнул к этим последним. Но нас было слишком мало, чтобы мы могли сражаться при свете дня. Я решил уйти под землю — скрыться в пещере Орнолак.
Те, что жили там уже давно, успели забыть, что такое солнечный свет, и проводили время в непрерывных молитвах. Бертрана Марти сменил Пейре Пажес, ему из рук в руки я вручил изумруд, доверенный мне в Монсегюре. В пещерных сумерках, где не было ни птиц, ни растительности, в дрожащем пламени свечей я узнавал лица: вот ремесленник из Каркассонна, сражавшийся под моим началом во время осады города, вот племянник Пейре де Роэкса из Тулузы и крестьянин Ферока, бестолковый, но преисполненный любви.
Кольцо солдат сенешаля все теснее сжималось вокруг входа в пещеру. Нам сообщили, что все тропинки в окрестностях Кастельвердена взяты под наблюдение. Лодки с вооруженными людьми курсировали вверх и вниз по течению Арьежа. Пещеры Лерм и Бадальяк были захвачены, а их обитатели убиты. Последние беглецы, прибывшие после нас, рассказали, что сенешаль решил взять штурмом убежища Орнолака.
Меня окружали люди подавленные, измученные невзгодами бродячей жизни, на которую обрекли их гонители. Они ничего не ждали от этого мира и уповали только на счастье, ожидающее их в мире потустороннем.
Все же мне удалось собрать отважных. Я поставил их на поворотах двух узких галерей, разветвлявшихся почти сразу после входа в пещеру. Нагромождение скал и сильный уклон почвы упрощали оборону. Первые же солдаты, возникшие на пороге пещеры, пали от выпущенных из темноты стрел. Сенешаль немедленно отозвал своих людей — скорее всего, зная, сколь длинны подземные галереи, он сообразил, что отыскать нас во мраке будет весьма сложно, и решил использовать иное, более надежное средство.
Все альбигойцы собрались в высоком и просторном, словно собор, гроте, в котором хранились сокровища и запасы пищи. Здесь свет крохотных масляных ламп становился достоянием всех: свет в Орнолаке был самой большой драгоценностью, запасы масла и жира расходовали особенно бережно. Совершенные, отвечавшие за их распределение, сопровождали каждую выданную каплю масла и жира вздохами и призывами к экономии. Несколько семей, последовав примеру отшельников, отправились в темные, уходившие в никуда галереи, дабы предаться там благочестивым размышлениям и умереть в одиночестве. Никто не знал, что с ними стало. Остальные собрались в гроте, стремясь в единении обрести душевную силу, необходимую для борьбы со страхом темноты. Чтобы не выдать своего присутствия, молились вполголоса. Мрак царил не только под сводами — молитвенный шепот и потрескивание масляных светильников наполняли мраком души.
Внезапно сквозь тишину прорвался грохот обвала. Стены вокруг нас задрожали. Примчались дозорные, поставленные следить за входом в пещеру, и приглушенными голосами сообщили, что солдаты сенешаля решили замуровать вход, наглухо запереть дверь, пропускавшую в пещеру свет.
Люди повскакали, видимо намереваясь броситься к выходу, чтобы в последний раз увидеть солнце, но с места никто не двинулся — пришли на память темницы в Фуа и огромные залы для пыток, в которых пленные катары погибли в медленных муках. Чинно рассевшись по местам в сгустившемся мраке, альбигойцы молча прощались с солнцем. Но никто не мог смириться ни с отсутствием солнца, ни с необходимостью его забыть, ибо без солнечного света немыслима красота нашего мира. Когда после долгих часов работы каменщиков грохот наконец прекратился, неистовая сила вырвавшегося из груди отчаяния заставила вскочить погруженных во мрак людей. Раздались крики. Люди, только что безропотные и покорные, преисполнились ярости — одни, впав в бешенство, метались в разные стороны, ударяясь головой о стены, другие, окончательно обезумев, опрокидывали сосуды с драгоценным ламповым маслом.
Вместе с теми, кому удалось сохранить рассудок, Пейре Пажес подходил к сломленным горем людям, пытаясь словами смягчить неисцелимую боль, порожденную тьмой. Утешители говорили о духовном светиле, которое каждый носил у себя в душе, о чудесном солнце Святого Духа. И каждый старался воссоздать внутри себя источник утраченного навсегда света. Но влажный воздух и непроглядная высь купола тяжестью своей придавливали нас к земле; лишившись надежды, не сумевшей пробраться сквозь толщу словно налитого свинцом мрака, нам оставалось довольствоваться сумеречными призраками солнца, таявшими, даже не успев приобрести осмысленной формы.
— Я хочу видеть! Отведи меня туда, где видно! — во всю силу легких кричал какой-то ребенок, обращаясь к матери.
Его крик, выражавший всеобщее желание, настолько преумножил страх, что многие предложили изгнать мать с ребенком в дальний коридор, чтобы голос его не долетал до нас.
Мне показалось, что из груди пробиравшегося среди напуганных людей Пейре Пажеса исходило слабое свечение. Я попросил его объяснить это явление. Он ответил, что прячет на груди завернутый в кожу полый изумруд, в центре которого — и я это видел — трепетали несколько капель красноватой жидкости.
— Это кровь Иисуса Христа, — сказал он. — Сбереженная в Кесарии, она была доставлена в Геную. Верные альбигойцы получили ее как свидетельство истины, хранителями которой они являются; когда ты почувствуешь, что силы твои убывают и надвигается смерть, устреми взор на этот камень, и на душе у тебя станет легко.
Я не могу в точности сказать ни сколько прошло времени, ни как убывала из нас жизнь. Знаю, многие умерли очень быстро — только из-за того, что лишились солнца. Первое время мы относили их тела в одну из дальних галерей и оставляли возле них крошечный светильник. Несколько минут он горел, потом гас. И силы наши тоже угасали. Мертвых уже не носили далеко, не оставляли им свет…
Несколько совершенных возложили на себя обязанность раздавать пишу. Сначала они соблюдали разумную экономию, потом их одолела усталость, и они перестали следить за справедливым распределением. Желающие приблизить смерть отказывались от пищи. Кое-кто хотел достичь того же результата, но наоборот — посредством обжорства. Некоторые хватали все, что могли, и заталкивали в углы про запас, а потом не находили спрятанное. Мы отправились к озеру и принесли в кувшинах отдававшей известью ледяной воды. Напившись этой воды вволю, многие отравились и умерли. Озеро производило совершенно особенное впечатление. Спящее в полупрозрачной каменной чаше, обрамленной скалистыми уступами, оно светилось бледным зеленоватым сиянием, словно в толще его таилась неведомая планета, осиянная мертвенным светом. Люди боялись стоять на берегу этого озера, к воде спускались только группами и при этом громко разговаривали.
Какой-то отважный отшельник, цепляясь за выбоины в камнях, добрался до противоположного берега. Мы видели, как он остановился, словно собираясь читать молитву, а затем застыл в ожидании смерти. На прощанье он помахал нам рукой. Отшельник был очень высок, а издалека его фигура и вовсе приобрела угрожающе гигантские размеры. Всякий раз, когда мы приходили за водой, тело его становилось все больше. Это невероятное разрастание мертвого отшельника лишь увеличивало ужас, внушенный озером.
Томление охватило альбигойцев, погребенных заживо в Орнолаке. Несколько молодых людей, отправившихся в темные глубины галерей, вернулись и принялись всех убеждать, что, если долго идти в северном направлении, выйдешь в узкий коридор, в конце которого, разгоняя окружающий мрак, брезжит дневной свет. По дороге они делали засечки, и теперь предлагали провести туда всех, кто пожелает. Но никто не встал: для тех, кто хотел сохранить свою веру, жизнь на земле стала невозможной. Многие были истощены до предела и предпочитали умереть, не делая лишних усилий. Люди отреклись от надежды вновь увидеть солнце.
Пришлось отказаться даже от скромного масляного освещения. Слабенькие фитили гасли один за другим. Когда зачадил последний светильник, я вгляделся в лица, склонившиеся над глиняным светочем, в котором угасал крохотный фитилек.
Среди них я узнал Эсклармонду д’Алион. Ее лицо полностью преобразилось и казалось одутловатым. Страдания обреченной жизни изменили его овал, сделали жестким взгляд. Оно еще хранило отпечаток прежней нежности — эфемерной, готовой испариться без следа. Облик, в котором когда-то я узрел воплощение совершенства, утратил свою чистоту, и это был последний увиденный мною образ — перед тем как мрак поглотил нас окончательно.
Когда последняя искра светильника взметнулась к свисавшим с потолка сталактитам и озарила бескрайнее пространство нашей гробницы, раздался приглушенный стон. Я сел, и скорбь моя превозмогла страх смерти.
Через некоторое время кто-то позвал меня сквозь тьму. На ощупь я двинулся на голос, спотыкаясь о распростертые тела, касаясь окоченевших членов, мраморных лиц. Немногие живые решили собраться вокруг Пейре Пажеса и умереть, держась за руки. Заняв свое место в цепочке, я услышал заунывный распев молитвы, которую товарищи мои передавали друг другу. Я не понимал смысла этих звуков, они умирали, не сумев пробиться в мое запертое сердце. Позднее — спустя час, а быть может, и день — в окутавшем меня сонном мороке возникли образы. Их плавная вереница потянулась передо мной. Сначала картины были приятные — в детстве такие заставляли меня смеяться. Затем появились люди, которых я когда-то знал: сейчас они, должно быть, находились либо в Тулузе, либо в каком-нибудь ином месте под солнцем; впрочем, возможно, многие из них уже принадлежали царству мертвых, куда вскоре предстояло вступить и мне. И я мог бы назвать по именам всех, словно эти имена были написаны у них на лбу. Люди перемещались по кругу, где в центре теплился тусклый свет, исходивший из запекшейся крови Иисуса Христа, спрятанной на груди Пейре Пажеса.
Свет этот завораживал меня. Он становился все ярче, пламя его зеленело, он был чудесен, невыразим. И я изумился, почему именно мне, с моими грубыми страстями, мне, жившему совершенно обыкновенной жизнью, выпало спасти божественную кровь и принести под землю, к ее верным избранникам. Я никогда не блистал умом, никогда не понимал возвышенных разговоров, которые вели в моем присутствии мудрые люди, и теперь запоздало сожалел, что не сумел в достаточной степени развить свой дух.
Но помимо сожалений, охвативших меня, мне показалось, что восприятие мое обострилось и непроницаемая пелена, окутывавшая мой разум, наконец прорвалась. Наверное, это была награда за перенесенные мною испытания. Некогда услышанные, но непонятые слова внезапно возвратились ко мне исполненными смысла: на темные вопросы возникли ясные ответы. Я испытал признательность ко многим людям, уразумел, сколь велика сыгранная ими роль. И как только вспомнил о них, они тотчас предстали перед мои взором: увидел философов, искавших мировую истину, Василида, Валентина, гностиков с их светоносными абстракциями. Воспитанники Александрийской школы излагали учение божественных эманаций. Я понял, почему Варфоломей держал в тайне свои поучения, почему с Мани живьем сняли кожу, почему Гипатию побили камнями. Понял причины странствий катарского папы Никиты, понял, почему согласно его решению именно Тулуза стала тем местом на земле, откуда предстояло воссиять свету истины. Я полюбил Никиту за его правильный выбор. Я понял то, чего прежде не понимал никогда: Святой Дух есть единение человека с бесконечным разумом.
Я долго жил в глупости, и когда почувствовал себя умным, возрадовался необычайно. Но тут мне явился персонаж в белом одеянии, заставивший исчезнуть все остальные образы. Я узнал скончавшегося много лет назад Папу Иннокентия. Он шел быстрым шагом, вперив в меня свой взор: таким давным-давно я увидел его в соборе Св. Иоанна. И меня охватило прежнее удивление, смешанное с ужасом. Внезапно Папа наклонился и с поразительной легкостью снял изумруд с груди Пейре Пажеса.
— Все реликвии принадлежат Церкви, — напомнил он мне.
Его лицо светилось пониманием и еще чем-то таким, что нельзя было сравнить ни с хитростью, ни с умением извлекать выгоду из любых обстоятельств. Папа поводил головой, символические павлиньи перья его тиары смотрели во все глаза, и он, указуя перстом на эти перья, проговорил:
— Я смотрю всеми своими глазами. И когда вижу, что на земле появилась очередная ересь, немедленно истребляю ее.
Словно подтверждая его слова, справа и слева от него вновь появились Василид, Валентин, Мани, Никита с крохотными светильниками в руках. Но Иннокентий подул на них, и они погасли. Вокруг медленно поднимались мертвые альбигойцы, протягивая глиняный светильник, где в скупо отпущенном масле возрождалась капелька света. Защищая ее ладонью, они пытались поднять светильники ввысь, но Иннокентий потряс своей хламидой и взметнувшийся ветер задул крошечные огоньки.
И я услышал обращенный ко мне суровый глас:
— Теперь, Дальмас Рокмор, ты все понимаешь? Я буду гасить любой духовный свет, идущий не от Церкви. Никто не имеет права самостоятельно размышлять о Боге. Я запрещаю, запрещаю даже читать Писание, ибо после прочтения священной книги у человека могут пробудиться собственные мысли. Моя власть парализует, иссушает, превращает в камень, и горе тому, кто посмеет ей противиться! Победа всегда за мной, а мятежника я похороню заживо в своем подземном храме.
Да, я понимал. Все было ясно. Я действительно пребывал в чудовищном храме мрака. Вокруг призрачные толпы еретиков оспаривали догму, пытаясь зажечь светильник собственной истины. Однако, не обращая внимания ни на их бесплотные тени, ни на меня самого, Папа Иннокентий служил в этом храме свою неизменную мессу. Собор стал неохватным, словно вся планета. В нем все: и алтарь, и угасшие свечи, и предметы культа были выточены из необычайно темного порфира. Из всех галерей выходили кардиналы; на их застывших мраморных лицах тускло блестели слюдяные глаза. Я видел жесткую спину понтифика: от этой спины исходила его любовь ко всему, что твердо, неизменно, безжизненно. Вот он вознес во тьме каменную гостию…
Внезапно меня обуяла жажда воздушного, летучего, невесомого, захотелось окунуться в облака, поплавать в легких эфирах. Однако мертвые держали меня за руки. Тогда я разъединил погребальную цепочку — осторожно, стараясь не прервать безгласную молитву, тихо встал. Желание избежать подземного гнета стало настолько велико, что я устремился вперед, готовый взлететь; упал, но без промедления вскочил на ноги.
Казалось, окружавшие меня стены пещеры образованы из значительно более плотных субстанций, нежели те, что встречаются на поверхности земли. Сталактитовые колонны съежились. Я видел, как высоко под куполом каменная твердь кристаллизуется и снижается, чтобы раздавить меня. Все пришло в движение: вода превращалась в хлябь, хлябь затвердевала… Я чувствовал притяжение потаенных глубинных потоков. Течение природных процессов обратилось вспять. И в уплотнившейся каменной массе собора раскинувший руки Иннокентий III постепенно становился единым целым с каменным монолитом, перевоплощался в каменного Папу.
А я, ощутив легкость, бросился бежать — подобно свежему ветру, дух наполнял мои легкие и передавал мне свою силу, превозмогавшую смерть. Я вспомнил рассказы молодых людей о галерее, выводящей к солнцу. Чтобы попасть туда, надо было двигаться на север. Я без труда отыскал нужное направление: где бы ни находился, я каждый вечер вычислял, в каком направлении находится Тулуза. Этот город, который был мне так дорог, располагался к северу от пещеры Орнолак, и когда я лег умирать, именно к нему обратил свое лицо.
Перепрыгивая через распростертые тела, я вскоре достиг озера. Уже на берегу я заметил, что отшельник значительно уменьшился, но не придал этому значения. Меня вела сила, источник которой таился глубоко во мне. Все, что я совершил в жизни, было не более чем забавой, чередой незначительных поступков. Я был верен своему народу, но почти ничего не сделал для него. Моя миссия начиналась только сейчас. Только сейчас я осознал свое исключительное предназначение. Я был одержим даром слова, дар этот был столь велик, что мне хотелось говорить даже на бегу. На меня неожиданно снизошло понимание происходящего, словно ушедшие совершенные оставили мне крупинки своих мыслей. Я гордился их наследием. Теперь следовало заставить его плодоносить. Я понял свой долг — рассказать людям историю своих братьев, историю истины, погребенной и воскресшей, и эта история не менее ценна, чем кровь Иисуса Христа, привезенная из Кесарии.
Шел я, похоже, недолго. На перекрестке, где галереи становились уже, змея, проскользнувшая у меня под ногой, указала мне правильный путь. Вдалеке забрезжил ни с чем не сравнимый свет, расточаемый дневным светилом.
Путь к свету преграждала каменная осыпь: камни нападали в заплывшую глиной трещину. Сопротивляясь, глина вспучилась, вытолкнув каменное крошево. Распластавшись на неровной поверхности подземной галереи, я полз как змея, царапаясь об острые ребра камней, борясь с частицами окаменелой материи, сцепившимися друг с другом, чтобы задушить меня.
Наконец руки мои нащупали живые растения; напуганная моим появлением стая летучих мышей разлетелась в разные стороны. Я вырвался из объятий безжизненного камня…
У ног моих бежал Арьеж. В бесконечной лазури неба светило солнце. Упав на колени, я простер к нему руки. И мне показалось, что я стал олицетворением своего народа. Злые хотели похоронить его заживо, но он вечно будет тянуть руки к солнцу духа.
Слава крылатому слову, что воскрешает мертвых и омолаживает живых, вызывая в памяти лица их отцов! Слава магическому слову, что водворяет деяния людские в кладовые памяти, дабы затем извлечь их оттуда и поместить на весы, более совершенные, нежели весы трех судий, восседающих в аду древних! Слава громкозвучному слову, что рассеивает мрак забвения!
Тишина — могущественнейшее оружие зла. Зло пронеслось над моим краем, оставив позади себя тишину и товарища ее страх. Половины века оказалось достаточно, чтобы люди Юга, чью плоть и чью веру подвергли мучениям, почти забыли историю своих страданий.
Опираясь на палку, облысевший, с длинной бородой, хожу я по деревням. Люди считают меня попрошайкой, но на самом деле это я даю им. Я даю людям память.
Каким-то неведомым путем ко мне вернулась способность совершать безумства — я совершал их во времена своей молодости. Благодаря этой способности я и живу. В аббатствах сменились приоры. Повсюду новые вигье и сенешали, прибывшие из Франции. Никто из высшего начальства не знает меня. Да и кому взбредет в голову обвинить в ереси и бросить в тюрьму старика, который пускается в пляс при виде ребенка и с ужимками падает ниц при появлении инквизитора? Каждый раз, когда я вижу перед чьей-нибудь дверью горшок с молоком, а рядом спящего человека, я выливаю молоко ему на голову. Когда же я прохожу мимо колокола, то тороплюсь дернуть его за веревку, а потом слушаю его звук.
В каждой деревне я старательно ищу того, кто способен выслушать меня до конца. Я не обращаюсь к тем, у кого есть дети. Положение отца семейства обязывает настороженно относиться к любым посягательствам на установленный порядок и официальную религию. Не обращаюсь я и к книжникам. Обычно выбираю какого-нибудь простачка с восторженным взором, потому что простак имеет больше веры, чем умный, и рассказываю ему, какой прекрасной и цветущей была земля Юга, пока сюда не пришли люди из северной Франции, как здесь почитали ученых, как воплотившаяся мысль становилась частицей всеобщей красоты. Рассказываю о гибели Безье, Каркассонна и Тулузы, посвящаю в то, как гибнет город, сумевший сохранить свои дворцы и храмы. Объясняю, что любая несправедливость порождает такую же несправедливость и эта цепочка не прервется до тех пор, пока несправедливость не будет — нет, не исправлена, ибо внешнее исправление не имеет никакого значения, — понята, понята теми, кто ее совершил, и прощена теми, кто ее претерпел.
Труднее всего понять прощение. Ведь красота мести так проста и доступна! Кажется, в ней даже имеется некое мужественное благородство. Месть — это первая мысль, приходящая в голову доверчивому простаку, который меня слушает. Он готов убивать без промедления. Мне очень трудно объяснить ему, что одна смерть влечет за собой другую, ибо связаны они так же тесно, как сын с отцом, и что все эти смерти создают цепь, которая никогда не прервется, если ее не разрубить каким-нибудь неожиданным поступком, например прощением. Когда я говорю об этом, во мне самом все кипит, ибо сам толком не понимаю, почему должен давать прощение, как предписали мне альбигойские мудрецы. Но разве важно, что я плохо понимаю послание? Достаточно того, что послание передано.
Я буду передавать его вечно. Как сказал мне Бернар Марти, мое несовершенство обязывает меня часто возвращаться на землю, и всякий раз мне предстоит возрождаться в новом человеческом облике. Но кем бы я ни стал, я всегда буду пробуждать воспоминания о страшной истории, которую снова успели забыть. Они сожгли все книги, все молитвы, все рукописные памятники альбигойской мысли. Восстановили обгорелые башни, поставили на постаменты новые колонны, сменили греческих богов на статуи своих святых. Но я не перестану бороться с молчанием зла. Я буду напоминать о погибших башнях, о прежнем здании тулузского капитула, о его советниках с жезлами из слоновой кости, о кладбище Сен-Сернен, где покоится династия Раймонденов де Сен-Жиль. Я заставлю ожить мертвых, иначе им не упокоиться с миром.
Дабы они упокоились и забыли о минувших злодеяниях, а их вечно светлый дух высвободился из материальных останков, при каждом новом воплощении я стану обретать тело жителя Тулузы. А так как моя любовь к моим братьям неустанно возрастает, буду усердно исполнять свой долг, и речи мои зазвучат светло и искренне.
Пусть тот, в чьем облике мне суждено воплотиться, станет прозорливее и мудрее, а духовная сущность его с годами будет все более незамутненной и прозрачной, подобно вину с виноградников Пеш-Давид! Пусть с каждым разом все ярче сияет клинок глагола! Пусть слова мои с каждым разом обретают все большее совершенство и достоверность! И пусть когда-нибудь, очистив сердце от зла, я увижу Тулузу и пойму, что камни ее больше не сочатся алой кровью альбигойцев! Да изгладится несправедливость в сердцах неправедных! И да будет прощение понято теми, кто его дарует.
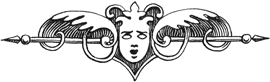
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК